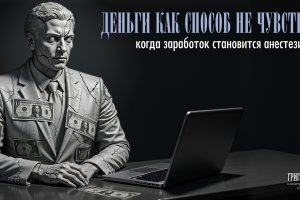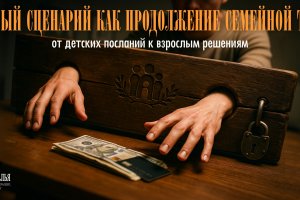Фраза «у меня было обычное детство» редко произносится в терапии просто так. Обычно она звучит в начале разговора как своеобразная прелюдия к рассказу, в котором нет претензий, нет «драмы», нет даже чётких воспоминаний. Это больше похоже на описание фона: без подробностей, без эмоций, без вопросов. И еще читается попытка закрыть тему ещё до того, как она началась. Как будто в этой фразе уже содержится ответ: там не на что смотреть. И действительно — когда в прошлом не было явного насилия, голода, сиротства или алкоголизма, человеку трудно признать, что в его детстве могло быть что-то, что повлияло на взрослую жизнь.
Так возникает одна из самых устойчивых форм отрицания: отрицание через сравнение.
— Мои родители не были идеальны, но старались.
— Вон у кого-то было хуже, а я что — нормально.
— Я просто не был избалован.
Этот способ мышления формируется не случайно. Психика защищает себя от перегрузки, особенно если переживания не были разделены с кем-то значимым. Если ребёнок чувствовал одиночество, но не мог это назвать. Если он знал, что рядом не до него и учился обходиться без чувств. Тогда «обычное детство» — не столько про объективные факты, сколько про отсутствие языка, на котором можно было бы их описать.
Однако в зрелом возрасте эта защита начинает мешать. Человек сталкивается с трудностями — в отношениях, в самоощущении, в реакции на близость — и не может найти корней. Он не верит в свою боль, потому что не разрешает себе её признать. Всё, что не укладывается в рамки «серьёзной травмы», продолжает оставаться вне поля внимания. А значит, вне возможности осмыслить, прожить и изменить.
Эта статья — не о травматизации как событии, а о травме как отсутствии: эмоциональной связи, устойчивого отклика, возможности быть увиденным. И о том, как привычка обесценивать собственный опыт мешает человеку восстанавливать контакт с собой.
«Обычное» ≠ безопасное: эмоциональное пренебрежение как незамеченная травма
Традиционно под словом «травма» подразумевается что-то острое, шоковое: насилие, угроза жизни, катастрофа. В этой логике вполне понятно, почему многие взрослые люди уверены, что их детство было «нормальным»: если не было побоев, голода, тирании — значит, всё было в порядке. Но психика формируется не только в экстремальных условиях. Намного чаще она адаптируется к фоновому неблагополучию: эмоциональной нестабильности родителей, хроническому отсутствию отклика, системному игнорированию чувств, неявной тревожности в семье. Это не катастрофа, но это среда, в которой ребёнок остаётся один на один со своим внутренним миром без помощи в его освоении и обозначении.
Такое состояние в англоязычной литературе называется emotional neglect — эмоциональное пренебрежение. Оно редко осознаётся как травматичный опыт, потому что не оставляет конкретных следов. Однако последствия часто совпадают с симптомами посттравматического спектра: хроническое напряжение, сложности в построении близких отношений, трудности в распознавании и выражении эмоций, повышенная чувствительность к отвержению, проблемы с самоценностью.
При этом человек не связывает своё сегодняшнее состояние с детством. Более того, он склонен обесценивать любые попытки внутреннего анализа: «Что я ковыряюсь в себе — у меня всё было нормально». Такое сопротивление усиливается культурными установками: «Не выноси сор из избы», «Не жалуйся», «Смотри на тех, кому хуже». В результате искажается не только восприятие прошлого, но и способность адекватно отнестись к настоящему.

Посмотрите на эту картину, написанную в 1968г художником Виктором Попковым. Изображена обычная советская семья, от современной, возможно, отличается тем, что взгляд родителей направлен в свой смартфон, а ребенок — просто рядом.
Человек может испытывать усталость, внутреннюю пустоту, ощущение оторванности от себя и других, но продолжать убеждать себя, что «просто нужно собраться». Он не называет боль болью, потому что в его системе координат для этого нет легитимных оснований.
Это не осознанное отрицание, а следствие того, что в детстве чувства не имели названия, не получали отклика, не становились предметом внимания.
Именно поэтому эмоциональное пренебрежение так трудно обнаружить. Оно не связано с каким-то одним эпизодом. Это структура отношений: повторяющаяся, стабильная, внешне малозаметная. В ней ребёнок вроде бы не страдает, но и не развивается в безопасности. Не потому, что родители плохие, а потому что они сами часто не научены быть в контакте с собой и, как следствие, не могут быть в контакте с ребёнком.
В терапии это проявляется не столько в жалобах, сколько в отсутствии опыта:
— Не могу понять, что я чувствую.
— Не знаю, как сказать, что мне плохо.
— Чувствую, что пусто, но не могу объяснить.
Такие фразы не редкость, это попытка взрослого человека прикоснуться к внутренней пустоте, которую когда-то он научился обходить.
Почему сравнение («у других хуже») лишает доступа к собственной боли
Сравнение — один из самых устойчивых и малоосознаваемых способов справляться с болью. Оно кажется взрослым и рациональным: человек как будто смотрит на своё прошлое объективно, умеет признать усилия родителей, проявляет благодарность. Он не жалуется и не драматизирует. У него есть понимание: «меня не били», «всё необходимое было», «у других было хуже».
С психологической точки зрения на самом деле это не зрелость, а защита. Сравнение с чужим более тяжёлым опытом выполняет важную функцию: оно гарантирует психике чувство стабильности, не даёт провалиться в уязвимость. Когда в детстве не было возможности разделить боль с кем-то, кто бы её признал и помог удержать, сравнение становится единственным способом дистанцироваться от внутреннего хаоса.
Если у меня не было самого страшного — значит, я должен справляться.
Если другим было больнее — мне нечего чувствовать.
Такой способ мышления формируется рано и часто не подвергается сомнению. Он встроен в язык семьи, в культурные кодировки, в логику «не жаловаться». В терапии он звучит как уверенность: «Мне кажется, я всё преодолел». Или: «Я не понимаю, почему так реагирую — у меня ведь ничего ужасного не было». На деле — это психика, которая блокирует доступ к слишком сложному опыту.
Сравнение здесь — это не просто привычка думать о других. Это способ держать дистанцию от самого себя. Оно выстраивает фильтр: допускается только то, что можно объяснить, оправдать, оценить как «разумное». Всё остальное отсекается: телесные отклики, непрошенные эмоции, обрывки воспоминаний, которые не укладываются в «норму».
В результате человек оказывается в когнитивном диссонансе. Он объективно живёт нормально, у него может быть работа, семья, социальная реализация. Но при этом хроническая усталость, внутренняя пустота, сложности в отношениях, неясные телесные симптомы.
И он не может связать это со своим детством, потому что «всё же было в порядке».
Парадокс в том, что это сравнение мешает не только признанию боли, но и исцелению. Пока человек убеждён, что его история недостаточно «значимая», чтобы быть пережитой, он будет обходить саму возможность восстановления. И не потому что не хочет. А потому что внутренне не верит, что имеет на это право.
История 1
На одной из сессий клиентка говорила о своём детстве почти отстранённо, как будто комментировала чужую биографию. Говорила, что «всё было нормально»: квартира, занятия, каникулы, работающие родители. «Да, мама могла вспылить. Ну и что? Не била ведь. У других родители-алкоголики, ругань, драки. А я нормально выросла».
Когда мы стали говорить о её трудностях с выражением чувств, появилась пауза. Тело напряглось. Мы начали обсуждать его отклик — ком в горле, руки сжаты — с чего вдруг, если все благополучно. И вдруг клиентка говорит:
«Я вспоминаю, как в 8 лет пряталась в шкафу. Просто чтобы побыть в тишине. Когда отец был дома — у нас нельзя было шуметь. Я включала настольную лампочку и сидела там с книжкой. Это же просто… я любила уединение, да?»
Вопрос был не риторический. Это была первая попытка выйти из сравнения и назвать то, что происходило. Не насилие и не катастрофа. Но атмосфера, где лучше было не мешать. Где не имело смысла просить. Где чувствовать — значило быть слишком.
До этого момента она считала, что пряталась потому, что так было удобно. Потом позволила себе почувствовать: а вдруг это всё-таки было про боль?
История 2
Один из клиентов долго пытался «оправдать» своё прошлое. Говорил, что родители были строгими, но по делу. Что он вырос самостоятельным, «без сентиментов». В ответ на любую гипотезу о боли улыбался с иронией: «Вы, психологи, всё усложняете».
Но однажды, обсуждая с ним трудности в отношениях с партнёршей, он сказал:
«Мне кажется, она что-то от меня всё время хочет. Я не понимаю что ей еще нужно: я всё делаю, я её не контролирую, не давлю, даю ей свободу. А она говорит — ты будто не со мной. Как будто рядом, но не рядом».
Я спросила его о том, знакомы ли ему такие переживания. Дальше он сам вдруг вернулся к детству:
«Мне так говорили родители. Что я странный. Что у меня лица нет. Что я смотрю, как будто сквозь. Иногда я думаю, что меня будто не было. То есть тело было, оценки были, в школе не жаловались. Но меня как будто не было. А что жаловаться-то? Мама старалась, помогала (давала денег, оплачивала репетиторов), не бросала. У других вообще ужас. А у меня обычная семья. Просто я старался не мешать».
Почему мозг предпочитает отрицание: биологическая логика защиты
Считается, что память — это архив. Но для психики она инструмент выживания. То, что не помогало в прошлом адаптироваться, нередко просто не сохраняется. Особенно если речь идёт о внутреннем, а не внешнем. Если рядом не было того, кто поможет назвать, что страшно, что больно, что одиноко, — переживание «отключается». Стирается не событие, а доступ к нему. Это не осознанный выбор, а способ сохранить равновесие.
Нейрофизиологически этот процесс связан с механизмами подавления и вытеснения, в которых участвуют миндалина, гиппокамп и префронтальная кора. При сильной или хронической эмоциональной нагрузке активируется миндалина (центр тревожных реакций), но без вовлечения лобных структур, отвечающих за осмысление и вербализацию. В результате переживание фиксируется в теле, но не оформляется в сознании. Мысль не формируется. Событие не становится частью нарратива (истории).
Так возникает то, что в терапии часто описывается как «ничего не помню, просто тяжело». Или: «это не вызывает эмоций, но почему-то в теле сжимается».
Это не потому, что человек «не хочет вспоминать» или «избегает». Просто доступ к этим фрагментам закрыт. Отрицание в данном случае — это нейропсихологический результат раннего опыта, где чувства были опасны или неуместны.
Со временем это становится привычным способом существования. Человек живёт с сильным телесным фоном: тревога, мышечный панцирь, трудности с расслаблением, бессонница. Но объяснить это не может. Опыта называния нет. Все попытки «поговорить о себе» ощущаются как фальшь, как вторжение, как насилие. При этом сам мозг продолжает работать на защиту. При попытке вспомнить приходят обрывки, несостыковки, раздражение, внутреннее сопротивление. Не потому что «не надо туда лезть», а потому что система не видит смысла возвращаться к боли, которая когда-то не могла быть услышана.
Так формируется структура внутренней изоляции: чувства — в теле, мысли — в рационализации, связь между ними — разорвана. Не потому что человек слабый или неглубокий, а потому что когда-то у него не было другого способа справиться.
Как признать боль, не становясь зависимым от неё
Восстановление контакта с детским опытом не означает автоматического погружения в страдание. Задача не в том, чтобы пересматривать всё прошлое под углом обиды, а в том, чтобы сформировать доступ к собственному внутреннему материалу такому, какой он есть, без оценки.
Проблема отрицания боли не только в её вытеснении, но и в том, что человек оказывается ограничен в способах саморегуляции. Если переживания не названы и не признаны, они не могут быть переработаны. Это нарушает гибкость психики. Человек реагирует на стресс либо чрезмерной мобилизацией, либо полным эмоциональным отключением. В этом состоянии сложно выстраивать близость, распознавать свои потребности, принимать сложные решения.
Терапевтическая работа в таких случаях строится на восстановлении способности быть в контакте с переживанием без его обесценивания или слияния с ним. Это не то, что называют катарсисом и не переоценка ценностей, а длительный процесс, в котором ключевую роль играет устойчивое, последовательное внимание к себе с возможностью опоры на другого.
Важно, что признание собственной боли не означает фиксации на ней.
Не нужно «испытывать страдания», чтобы доказать его наличие.
Не нужно рассказывать свою историю публично, чтобы она стала значимой.
Не нужно сравнивать её с чужими, чтобы убедиться в её легитимности.
Достаточно иметь возможность внутренне признать тот факт, что то, что происходило, оставило след. И этот след — часть внутренней структуры, а не моральная оценка событий.
Для многих клиентов этот процесс начинается не с воспоминаний, а с непонимания, почему в их жизни при внешней благополучности возникает ощущение внутренней пустоты, раздражения, вины без повода, неспособности отдыхать. Задача не в том, чтобы это «исправить», а в том, чтобы понять, откуда это берётся. Это и есть путь к восстановлению непрерывности себя: от реакции — к осознаванию, от автоматизма — к выбору.
В этом процессе необходима возможность индивидуальной настройки: не существует универсальной процедуры или алгоритма. Для кого-то это телесная терапия, для кого-то работа с образами, у кого-то — через речь и проговаривание. Метод определяется не предпочтением специалиста, а тем уровнем доступа, который у клиента есть на данный момент.
Разграничение между признанием боли и отождествлением с ней — это не вопрос силы воли, а результат постепенного формирования внутренней опоры. Чем больше у человека возможности выдерживать переживание без паники, без избегания, без утраты контакта с внешней реальностью, тем меньше риск слияния с другими людьми (созависимость). Речь не о героизме и не о «встретиться с собой», а о формировании гибкой, устойчивой системы психической саморегуляции.
В психотерапевтической практике отрицание травматического опыта, особенно в его «тихих» формах — эмоционального пренебрежения, недостатка отклика, отсутствия устойчивого присутствия, встречается чаще, чем прямая вербализация (называние) боли. Особенно там, где детство маркируется самим человеком как «обычное».
Установка на сравнение, формирующаяся в культурном и семейном контексте, закрепляет внутреннюю структуру, в которой доступ к переживанию блокируется ещё до того, как возникает попытка его осмысления. При этом многие симптомы — хроническое напряжение, сложности с выражением эмоций, проблемы в близости, внутренний вакуум — продолжают сохраняться.
Понимание этого механизма позволяет рассматривать невыраженную боль не как дефицит «драмы», а как системное последствие длительного отсутствия эмоционального контакта. Это вопрос структуры: если внутренний опыт долгое время не находил отражения, он перестаёт быть доступен без специальной работы.
Возвращение к этому опыту возможно при наличии устойчивой опоры, безопасного контекста и точного языка, с помощью которого можно отделить воспоминание от интерпретации, переживание от слияния, контакт от ре-травматизации. Это требует времени, навыков и внимательной профессиональной настройки.
Для клиента это не всегда выглядит как движение. Чаще похоже на паузу, в которой появляется возможность впервые зафиксировать то, что прежде обходилось вниманием. В этой паузе формируется внутреннее пространство, в котором возможно восстановление доступа к себе — не как к объекту анализа, а как к субъекту переживания.
Изменить ситуацию — это непростой путь, гораздо легче его пройти вместе с психологом. Диагностическая консультация поможет понять проблему и найти варианты дальнейшей работы для решения. Коллег приглашаю в свои интервизионные и супервизионные группы.