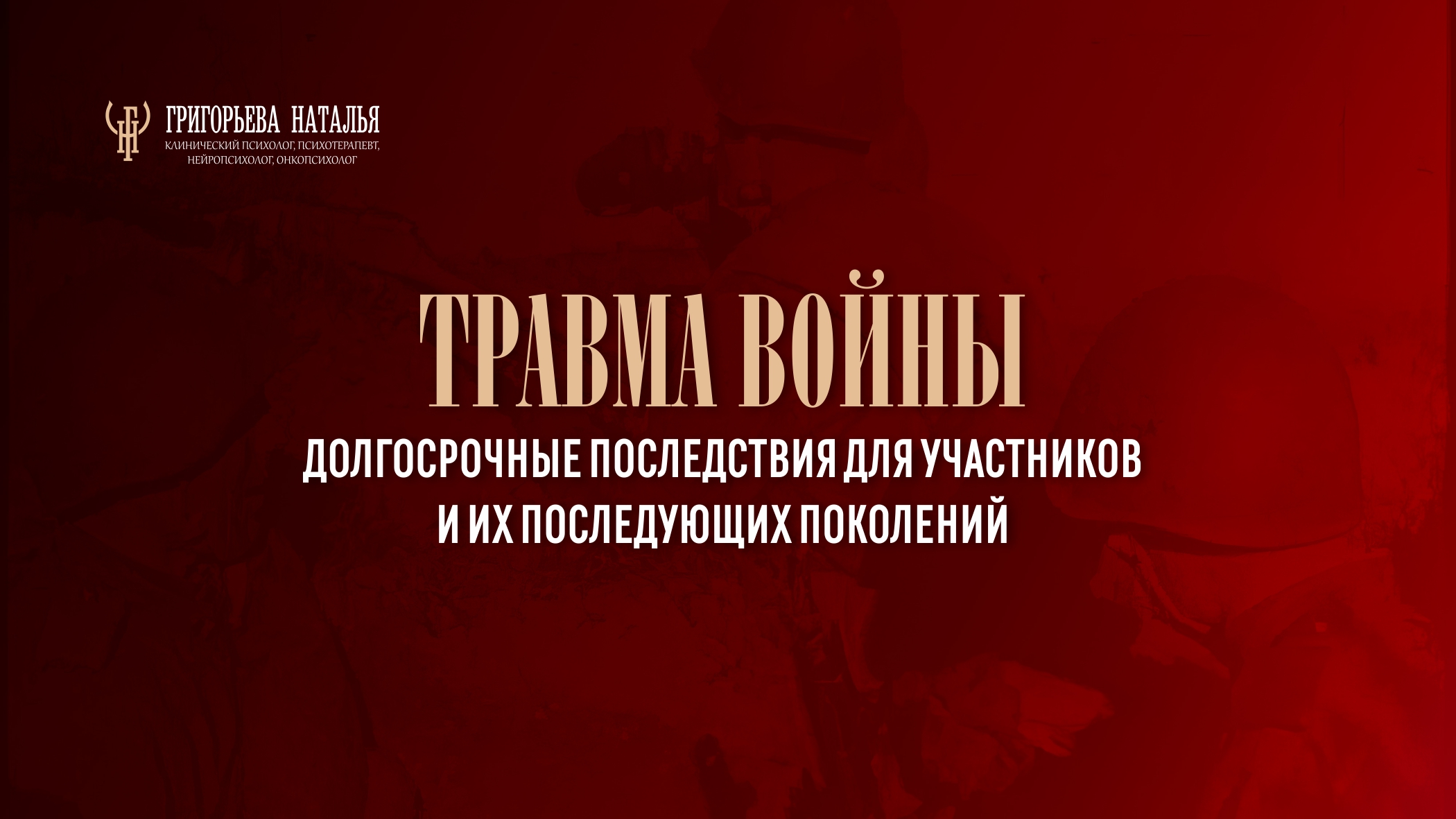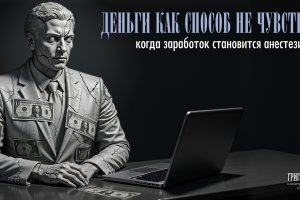Каждый май мы вспоминаем Победу. Но мало говорим о том, что война остается внутри. Есть травмы, у которых нет даты окончания. Войны, которые продолжаются, даже когда на улицах уже давно мир и спокойствие. И есть тишина, в которой боль только крепнет.
Есть те, кто замолчал, окаменел, стал суровым, тревожным, холодным. И о те, кто жил рядом с ними. Кто вырос в их домах, кто принял их боль как норму, как часть быта, как воздух. И пронёс её дальше.
Война — это не только исторический факт. Это многолетняя боль, проникающая в тело, психику и отношения последующих поколений. Война уходит из новостей, но остаётся в семьях, диагнозах и голосах наших клиентов. Мы — психологи, психотерапевты, супервизоры — сталкиваемся с её эхом каждый день, даже если это не написано в запросе.
Почему травма войны так устойчива?
Травма войны — это травма, которую невозможно «осмыслить» в момент её возникновения. Участник боевых действий, беженец, выживший — сталкивается с невозможным: с утратой, голодом, смертью, разрушением базового доверия к миру. Когда нет возможности выразить горе, его замораживают. Сильные эмоции не интегрируются в память — они «капсулируются», оставаясь в теле и в бессознательном. У поколений послевоенного времени это капсулирование становится нормой: не чувствовать, не говорить, держаться. Именно это наследуют дети, внуки и правнуки.
Переживание событий войны относят к исторической травме, потому как это влияет на целые народы, и к трансгенерационной (межпоколенческой), т.к. оставляет след на протяжении нескольких поколений членов семьи. По последним данным, трансгенерационная травма проявляется на протяжении 130 лет.
Как отмечает М. Кайзер, травма войны передаётся как «немое знание» — не через рассказывание историй, а через молчание, тревожную настороженность, соматические расстройства, а также нарушенное восприятие безопасности и границ. Она продолжает жить в виде телесных симптомов, схем мышления, ригидных установок, невозможности строить доверительные отношения. Это — глубоко устойчивый паттерн, даже если на дворе — мирное время.
Американский нейропсихолог Луис Козолино подчёркивает: мозг человека — это в первую очередь социальный орган, развивающийся в диалоге с окружающими. Если травма разрывает этот диалог, если в системе семьи сохраняется молчание, недоверие или стыд, — то «незавершённые» эмоциональные петли не исчезают. Они продолжают жить в телах, реакциях и даже в структурах мозга потомков.
Французский психотерапевт Анн Шутценбергер, называет это «жить чужую жизнь». Мы можем испытывать страхи, переживания и даже болезни, которые не относятся к нашему личному опыту. Это феномен «психического наследования» — когда жизненные установки, травмы и запреты предыдущих поколений бессознательно транслируются детям.
Трансгенерационная травма — это не просто боль, передающаяся из поколения в поколение. Это тяжелейшая шоковая травма, связанная с угрозой жизни, с утратой, с разрушением мира. Именно из-за её масштабности, глубины и ужаса, она не может быть полностью переработана в рамках одной человеческой жизни. Психика не выдерживает такой перегрузки — и тогда травма «запаковывается», вытесняется… и передаётся дальше.
Что происходит внутри травмированной личности
Когда случается нечто ужасное — насилие, потеря, война, катастрофа — личность как будто раскалывается на части:
🔹 Травмированные части. Это застывшие фрагменты психики, которые сохраняют ужас, беспомощность и боль момента травмы. Они не имеют доступа к времени: даже спустя годы эмоции здесь остаются такими же острыми, как в момент травмы. Они «заморожены» внутри психики, выключены из жизни. Но они не мёртвые — они дышат кошмарами, паническими атаками, внезапными провалами в апатию или агрессию.
🔹 Выживающие части. Их основная задача — любой ценой избежать повторения травмы. Они формируют стратегии поведения, которые защищают от болезненного опыта: гиперконтроль, подавление чувств, избегание близости, перфекционизм. Это автоматизмы, лишающие человека гибкости и спонтанности. Именно эти части чаще всего управляют повседневными решениями, выдавая их за рациональный выбор. Они словно роботы — умеют делать, но не умеют чувствовать.
🔹Здоровые части. Это наша изначальная, целостная структура, сохраняющая способность к любви, доверию и самореализации. После травмы она оказывается замороженной или подавленной, но никогда не исчезает полностью. Именно с ней связаны подлинные потребности, желания и жизненная энергия.
Расщепление — это свидетельство того, что психика сделала всё возможное для выживания. Как последствие травмы, раскол во взрослом возрасте продолжает определять жизнь человека, отделяя его от радости, любви и искренности в отношениях с собой и другими. Когда человек живёт с такой расколотой душой, его поведение становится парадоксальным: он всё делает «правильно», но не может быть счастлив. Не может расслабиться. Не может остановиться. Он тревожен, потому что внутри него живёт застрявший ужас. И иногда, когда усталость пробивает защиту, «жертва» выходит на поверхность: кошмары, тревога, неконтролируемые реакции, слёзы без причины, истерики на пустом месте. На самом деле — причина есть. Просто она старая, чужая и непрожитая.
Передача травмы в поколениях: история боли
Когда травма не проживается, не оплакивается, не находит слов — она не уходит, а просто ищет нового носителя. Так работает механизм трансгенерации. Следующее поколение «наследует» боль, не понимая её источник.
Луис Козолино описывает это так: структура мозга и реакции формируются в контексте отношений. Если семья существует в состоянии хронической угрозы или замороженной боли, мозг ребёнка буквально «учится» воспринимать мир как опасное место. Даже если угроза осталась в прошлом.
Первое поколение — непосредственные участники войны.
Им было не до чувств. Они выживали. Они молчали. Им некогда было горевать. Ими гордятся, но их боль вытеснена — «чтобы не сойти с ума». Внутренне они так и не вернулись с войны. С того времени проходили многие годы, а слезы и боль всегда стояли в глазах при воспоминаниях о тех событиях (в этом отличие травмы войны — в норме та же травма потери проживается за полгода-год). И в этом случае для подавления чувств и эмоций традиционно использовался алкоголь. Если травма была вызвана чувством бессилия и гнева, что более характерно было для мужчин, то она находила выход в виде побоев или «беспричинных» и беспощадных драк. У женщин чаще травмы проявлялись в виде эмоционального насилия.
У 1-го поколения выживающая часть больше, чем травмированная, поэтому человек плюс-минус функционален. Проблема в том, что чем дольше во временном периоде не решается конфликт между травмированной и выживающей частью, тем большую он силу набирает, тем сильнее становится травмированная — вытесненная часть. Поэтому жизнь у этого поколения была или трагичной и не очень длинной, или же, наоборот, всем на удивление такие люди доживали до 100 лет.
Второе поколение — дети воевавших.
Они росли в домах, где выживали, но не жили. Где не говорили, не обнимали, не мечтали. Где взрослые только всё делали «как надо». Они росли рядом с холодной, пугающей тишиной, где не было слов про чувства. Они учились: «опасно спрашивать», «лучше молчи и не чувствуй». Эти дети научились быть удобными, сильными, не мешать. Они — герои послевоенного труда, часто живут с девизом: «не до себя, надо держаться». Их внутренние переживания не важны — важно выжить и не подвести.
Механизм, если упростить, легко понять. Вот рождается у травмированного человека, с расколом в душе, ребенок — чистая душа. И ребенок копирует особенности психики своих родителей тем сильнее и охотнее, чем большую роль те играют (а ведь люди, которые совершили подвиги ради победы, действительно герои). А что для такого родителя может быть важнее внутреннего конфликта расколотой души, того самого, который определяет его жизнь на 99%? Ничто. Поэтому этот раскол копируется в первую очередь.
У 2-го поколения травма проявилась или в явном, или в скрытом виде. У кого в явном виде в душе победила травма — те существовали неблагополучно, от одной трагедии к другой, по наклонной. Здесь речь идет деструктивном поведении, о невозможности найти себя, наладить свою личную и общественную жизнь.
Многие всю жизнь несли в себе травму скрыто. Их выживающие стратегии были хороши — работа работалась, получались квартиры, иногда машины, как-то налаживалась жизнь. Они держались на силе воли, внутренних лозунгах и парадигмах «сильного человека», подавляли в себе любые чувства, и только к самой старости иногда давали слабину. Потому что из года в год травма набирала свою тайную силу и для своего удержания требовала все больше ресурсов психики.
Третье поколение — внуки.
Переняло ли следующее поколение травму? Да! 100%. По тому же принципу копирования, когда младенец перенимает важнейшие психические структуры родителей, их способ воспринимать мир, думать и действовать. Вот только у этого поколения на первое место все чаще в расколотой психике выходила жертвенная часть, а не выживающая.
Это 3-е поколение, мы знаем по термину «золотая молодёжь». Представители этого поколения, выросшие в условиях относительного благополучия, казались «избалованными» и излишне ориентированными на материальные ценности. У них вроде бы есть всё: еда, образование, условия относительного комфорта и изобилия . Но внутри — пустота, хроническая тревога, ощущение чужой жизни. Они чувствуют, что обязаны «отработать» что-то — долг, вину, чью-то смерть. Но не понимают, откуда это.
В этом, 3-м поколении, уже больше алкоголиков и прочих зависимых (тут еще и компьютеры подоспели), вечно ищущих свое место в жизни чудаков, инфантильных мечтателей и т.д. Это поколение впервые приходит на терапию. Оно не понимает, откуда в жизни столько тревоги, стыда, страха. Оно жалуется на пустоту, депрессию, ощущение, что живёт не свою жизнь. На уровне слов — войны не было. На уровне психики — она не закончилась.
Четвёртое поколение — правнуки воевавших и дети тех, кто уже в терапии.
Здесь травма проявляется практически с самого рождения. Они приходят в этот мир с уже унаследованным напряжением нервной системы. Всё больше случаев врождённой эмоциональной нестабильности, расстройств аутистического спектра, СДВГ, задержек речи, эмоционально-волевых нарушений, ранних тревожных и депрессивных расстройств. Психика ребёнка формируется в условиях, где у родителей и бабушек с дедушками не было безопасного контакта с реальностью, с телом, с эмоциями. Они растут в семьях с фоном хронического стресса и тревоги, который воспринимается как норма. Такие дети интуитивно «настраиваются» на страх, унаследованный через поколения, даже если сами никогда с травмой не сталкивались.
Это уже не просто невроз — это искажение развития, с которым ребёнок рождается. Сегодняшние подростки и молодые взрослые все чаще приходят в терапию не с истерией и не с неврозами, как 30 лет назад, а с ощущением сломанности мира, утраты смысла, тотальной неуверенности, неспособности адаптироваться к обычной жизни.
Симптомы и болезни детей в 4-м поколении это следствие давних травм психики, что случились с дедами и прадедами. У таких детей может не быть личных психических травм, но существуют они так, словно лично пережили голодомор, смерть родителей, заключение в концлагерь и потерю смысла в жизни.
Представим обычную семью.
Первое поколение — дед. Он вернулся с войны. Он выжил. Но внутри него осталась другая война — та, в которой он потерял товарищей, замерзал в окопах, убивал и видел ужасы войны. Он не рассказывал, что было. Он молчал. Иногда — пил. Иногда — кричал.
Иногда — сидел, глядя в одну точку. Он не был жестоким. Он просто замкнулся. Перестал быть живым. Потому что быть живым было слишком больно.
Второе поколение — его дочь. Она не была на войне. Но выросла в доме, где живут, не дыша. Где шаги делаются осторожно, чтобы не спугнуть отца, не вызвать вспышку. Где чувства — роскошь. Где радость — неуместна. Она рано повзрослела, всё делала правильно. Она гордилась отцом — он герой. И носила в себе вину за то, что ей хочется простого счастья.
Третье поколение — внучка. Она не знает, что с дедом было не так. Он уже умер. Мама тревожная. Всегда всё контролирует. Боится отпускать. Считает, что «нельзя расслабляться». У внучки панические атаки. Нарушение пищевого поведения. Тревожность. Она не знает, откуда всё это. Ведь её детство было мирным.
🔻 Но эта травма — не её. Она — переданная. Как наследство.
Анн Шутценбергер назвала это «синдромом предков»: бессознательной лояльностью потомков к неотреагированной боли рода. Потомки становятся носителями того, что не было прожито и оплакано. Иногда буквально — через повторение судьбы. Иногда — через симптом.
И это не про генетику, а про психоэмоциональное поле, в котором формируется личность. Про память семьи, запечатлённую не столько в словах, сколько в телах, взглядах, запретах, правилах.
Как работает трансгенерационный механизм травмы
Пережившая поколение травма не интегрируется, а вытесняется. Военное поколение не имело условий для осмысления боли. Не было слов. Был подвиг. Была необходимость выживать. Поэтому психика разделяется: «травмированная» часть отщепляется, а «выживающая» — идёт дальше.
В семье формируется культура молчания. Молчание не только по фактам, но и по чувствам. Не плакать. Не бояться. Не жаловаться. Быть сильным. Стыд за слабость. Стыд за радость. Отсутствие эмоциональной близости.
Следующее поколение адаптируется — но внутри этой деформации. Оно не может назвать, что именно нарушено. Но растёт в тревожной или холодной атмосфере. В гиперконтроле. В подавлении чувств. В культе выносливости.
Третье поколение проявляет симптом. Психика потомка, по выражению Козолино, «воспроизводит контекст». Симптом становится единственным способом показать, что что-то было не так. Это может быть депрессия, тревожность, РПП, сложности в близости, хроническая усталость, синдром самозванца, пустота.
Одна из самых разрушительных форм передачи боли — это абьюз в семье. Когда любовь путается с контролем, поддержка — с критикой, забота — с гиперопекой.
Абьюз — это не только физическое или сексуальное насилие. Это ежедневное передавание тревоги, страха, стыда, вины — тех чувств, которые накопились у родителей и не нашли выхода. Абьюзер — часто человек, который когда-то был жертвой. Он повторяет структуру выживания, а не любви.
Военная травма делает невозможным нормальный контакт с уязвимостью. А значит — человек строит защитные крепости, атакует, отстраняется, критикует. Даже в мирное время он продолжает жить в режиме опасности. И дети растут внутри этого режима. Они учатся: «расслабиться — значит погибнуть», «чувства — это слабость», «мир — враг».
Почему травма войны так устойчива
Потому что она была коллективной и тотальной. Потому что переживалась без поддержки. Потому что общественный нарратив запрещал говорить о боли. Потому что «героизм» вытеснил «горе».
По словам Натальи Олифирович, межпоколенческая передача травмы усиливается, когда:
- в семье были значимые потери, но они не оплакивались
- был страх, переданный родителями детям: «не высовывайся», «не верь никому», «будь осторожным»
- эмоции — особенно печаль, страх, злость — были табуированы
- отсутствовал безопасный взрослый, способный выдержать чувства ребёнка
Личность, травмированная в поколениях
Человек, выросший в цепочке травмы, не умеет жить в условиях мира. У него нет внутренних ориентиров для безопасности, удовольствия, выбора, близости. Он сам создаёт «маленькие войны» внутри себя — перфекционизм, самонаказание, внутренний критик; или снаружи — абьюзивные отношения, постоянные конфликты, сценарии «жертва-спасатель-преследователь»; или просто уходит в апатию и хроническую тревогу — как в единственный знакомый способ выживания.
Абьюз часто рождается именно из этой недопрожитой травмы. Агрессия — это вытесненный ужас. Контроль — это страх.
Отстранённость — это память о боли. Не потому что человек «плохой». А потому что в нём — непереваренная боль трёх поколений.
Как именно выглядит травма поколений и как она проявляется в жизни людей, которые ее унаследовали?
Вот лишь некоторые признаки:
🔹Человек испытывает необъяснимое беспокойство и слишком внимательно относится к своему окружению
🔹Человек чувствует недоверие к определенным людям или к окружающему миру в целом
🔹Человек избегает определенных ситуаций без разумной причины
🔹Наблюдаются частые кошмары или проблемы со сном
🔹Имеются проблемы с употреблением алкоголя или наркотиков
🔹Сложности с восприятием и проявлением эмоций (алекситимия) и неспособность самостоятельно регулировать свои негативные эмоции
🔹Подчиняемость агрессивным лидерам
🔹Повышенная чувствительность к проявлениям несправедливости
🔹Сложности в защите себя и своих прав
🔹Повторяющиеся негативные события в жизни человека или воспроизводство подобных событий из поколения в поколение
🔹Кто-то сушит сухарики или жутко нервничает, если холодильник полупустой и нет запаса круп.
🔹Кто-то все время выживает и никогда не живет легко и радостно.
🔹Кто-то не доверяет никому, никогда не просит помощи или чувствует недоверие к определенной категории людей.
🔹Кто-то занимается экстремальными видами спорта или ищет на свою голову опасных приключений.
🔹Кто-то избегает определенных ситуаций без внятной логической причины.
🔹Кто-то страдает от хронических наследственных заболеваний или имеет букет психосоматики, а врачи разводят руками и диагноз поставить не могут.
🔹Повторяющиеся паттерны несчастных отношений
🔹 Сложности с установлением личных границ
🔹Затруднения с идентичностью («я не знаю, кто я и чего хочу»)
🔹Склонность к самопожертвованию, гиперответственность.
За этими проблемами часто — психика, не умеющая жить в мире. Она умеет выживать. Она не знает, что значит быть в безопасности. Тело — напряжено, голова — перегружена, эмоции — чужды. Внутри — маленький ребёнок, выросший в транзитной зоне между «войной тогда» и «миром сегодня», который так и не наступил.
Что делать?
Травма поколений обычно возникает как из-за неосведомленности, так и / или из-за стигматизацией травмы. Помимо того, что семьи просто не осознают, насколько на них повлияли ужасные события прошлого, они могут неохотно говорить об этом. Когда пережившие травму открыто рассказывают свою историю и когда потомки могут справиться с травматическим прошлым своих родителей, между ними открываются новые пути исцеляющего общения. Открытый диалог между родителями и детьми относительно истории семейных травм очень необходим. Родителям необходимо рассказывать своим детям ужасные вещи, которые произошли с ними и все, что родители знают о том, что случилось с их родителями, бабушками и дедушками, так как дети могли быть невольными получателями болезненных переживаний из прошлого. Когда скрытые семейные трагедии перестают быть тайной или перестают отрицаться, это может стать большим облегчением для детей, особенно если они понимают, что несут в себе то, что принадлежит родителям, бабушкам и дедушкам.
Таким образом, цикл травм поколений продолжается до тех пор, пока кто-то не решит прекратить воспроизводство межпоколенческой травмы, обратившись за помощью к специалистам по психическому здоровью. Когда человек будет способен переработать тяжелый жизненный опыт (оплакать, отгоревать, отпустить), травма переработается. Постепенно человек снова научится жить уже в новой реальности.
Как может помочь терапия
Когда на прием заходит клиент с тревогой, депрессией, эмоциональной нестабильностью — мы не всегда сразу видим след войны. Но в процессе работы начинают всплывать паттерны, как следы запретов и установок, которые были нужны, чтобы выжить в условиях войны и разрухи, но стали токсичными в условиях мира.
Мы не можем изменить прошлое. Но мы можем сделать его видимым. Мы можем осветить тень.
Терапия — это место, где начинают звучать те, кто молчали. Где можно отдать чужую боль — и взять свою судьбу. Где можно признать: «Это было». Оплакать. Понять. И отпустить. Шутценбергер пишет: «Когда в роду появляется тот, кто начинает задавать вопросы — род исцеляется». А Козолино добавляет: «Травма живёт в изоляции. Исцеление начинается с отношений».
О чём это для нас, специалистов
Трансгенерационная травма — это не только исторический феномен. Это — повседневная реальность. Особенно в стране, пережившей войны, репрессии, депортации, голод. Где многие семьи хранят «чёрные пятна» — истории, о которых нельзя говорить. Где быть живым — значит быть уязвимым. А быть уязвимым — опасно.
Психотерапия становится пространством реконструкции — Слов. — Смыслов. — Идентичности. — Права жить по-своему.
Психотерапия становится местом, где «внутренний ребёнок» семьи, поколениями забытый, наконец получает голос. Здесь можно: — исследовать семейные сценарии, осознать, где заканчивается «их» история и начинается ваша — выстроить границы с наследием боли, не разрушая связи с предками — переработать чувства вины, стыда, стеснения, «нелепой» тревоги — вернуть себе право на радость, свободу, собственную судьбу
Иногда люди приходят в терапию «просто с тревожностью» или с вопросом «почему мне плохо, хотя всё вроде бы нормально». А потом находим там след войны, утраты, депортаций, семейных секретов. И только тогда приходит настоящее облегчение: эта боль не моя, но я могу её остановить.
Остановить цикл — значит стать началом новой истории
История не должна повторяться бесконечно. Она может быть понята, принята, оплакана. И тогда в роду появляется тот, кто начинает жить — не выживать, а по-настоящему быть. В терапии трансгенерационной травмы важна позиция уважения к боли, которая переживалась «не здесь» и «не сейчас», но передалась». Мы имеем дело не только с клиентом, но и с историей, в которую он был вписан без своего согласия.
Как ведущая интервизионных групп и супервизор я часто слышу от терапевтов: «У клиента очень сильное сопротивление, он не хочет идти в чувства». «Кажется, он не осознаёт, что живёт чужой жизнью». «Его реакции сильнее, чем ситуации — вся его жизнь — война со всеми и всем».
Если вы замечаете это в работе — проверьте, нет ли под травматическим ядром семейной истории. Расспросите о бабушках и дедушках. Спросите, кто выжил, кто погиб, кто о ком не говорит. Обратите внимание на семейные табу и внезапные повторы (одинаковые имена, трагические даты, повторяющиеся симптомы). Работа с этим пластом требует деликатности, глубины и уважения. Но именно здесь может произойти настоящее изменение — когда клиент начинает видеть: я — не только носитель боли, я могу жить свою жизнь.
Победа — это не только 9 мая. Это когда боль перестаёт передаваться дальше.
Когда человек говорит: «Я больше не должен быть тревожным, чтобы доказать свою верность. Я могу быть живым. Я могу быть собой». Когда цепочка заканчивается. Когда война — уходит. Психолог — это тот, кто помогает другому вернуться в мир. Мы не лечим травму войны. Мы помогаем её пережить. Чтобы в следующем поколении было чуть больше жизни.