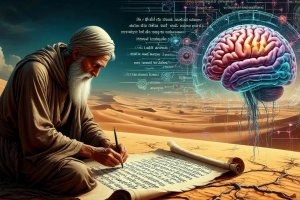Долгое время синдром избыточного бактериального роста (СИБР) рассматривался сугубо как гастроэнтерологическая проблема, своего рода механическая поломка, при которой бактерии из толстого кишечника мигрируют в тонкий, вызывая вздутие, боль и нарушения стула. Однако современные исследования все чаще обращают внимание на сложную взаимосвязь между психическим состоянием и развитием СИБР, формируя картину, где психосоматика играет не просто сопутствующую, а зачастую ключевую роль.
Ученые уходят от упрощенного представления о том, что «стресс вызывает болезнь», и погружаются в изучение конкретных физиологических механизмов, связывающих мозг и кишечник.
Основным проводником этой связи является ось «мозг-кишечник-микробиота» — двусторонний канал связи, где центральная нервная система постоянно «общается» с кишечной нервной системой, а также с населяющими его микроорганизмами. Хронический стресс, тревожные расстройства и депрессия способны нарушать работу этой оси. Исследования, в том числе опубликованные в журнале «Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology», показывают, что психологический дистресс напрямую влияет на моторику тонкой кишки. Стрессовые гормоны, такие как кортизол и катехоламины, могут замедлять мигрирующий моторный комплекс (ММК) — своеобразный «внутренний дворник», который в промежутках между пищеварением выметает остатки пищи и бактерии из тонкого кишечника в толстый. Когда ММК работает лениво, создаются идеальные условия для закрепления и размножения бактерий там, где их быть не должно.
Иными словами, стресс может напрямую «отключать» нашу внутреннюю систему очистки кишечника. Речь идет о мигрирующем моторном комплексе (ММК) — специфической волне сокращений, которая работает натощак и выполняет роль «дворника», выметая остатки пищи и бактерии из тонкой кишки. Исследования с использованием манометрии высокого разрешения показали, что высвобождение кортикотропин-рилизинг-гормона (CRH) — ключевого медиатора стресса — напрямую подавляет активность ММК. Это не опосредованное влияние, а прямой биохимический приказ мозгом кишечнику прекратить уборку, создавая идеальную почву для избыточного бактериального роста.
Кроме того, стресс изменяет состав и разнообразие кишечной микробиоты, делая ее более уязвимой и провоспалительной. Это создает порочный круг: измененная микробиота, в свою очередь, посылает сигналы обратно в мозг через блуждающий нерв и путем выработки нейроактивных веществ (например, гамма-аминомасляной кислоты), усугубляя тревожность и депрессию. Человек с СИБР испытывает физический дискомфорт, который повышает уровень его тревоги, а эта тревога еще сильнее ухудшает состояние кишечника. Исследование, проведенное в 2020 году и охватившее пациентов с функциональными расстройствами ЖКТ, четко показало высокую коморбидность между СИБР, диагностированным водородным дыхательным тестом, и паническими атаками, а также социофобией.
То есть бактерии в тонком кишечнике при СИБР могут сами производить вещества, усугубляющие депрессию. Некоторые штаммы бактерий способны синтезировать ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту) — главный тормозной нейромедиатор мозга. Хотя это звучит позитивно, избыточное и нерегулируемое производство ГАМК в периферической нервной системе кишечника может нарушать его моторику. Более того, другие бактерии метаболизируют пищевой триптофан не в серотонин («гормон счастья»), а в кинуренин — соединение, связанное с развитием депрессии и тревоги. Таким образом, СИБР может физически формировать биохимический субстрат для плохого настроения.
Кроме того, существует специфический иммунный ответ на стресс, затрагивающий кишечник. Во время хронического стресса тучные клетки (мастоциты) в слизистой оболочке кишечника становятся гиперактивными. При их дегрануляции выделяется гистамин и другие провоспалительные вещества, которые напрямую повышают проницаемость кишечного барьера («синдром дырявого кишечника»), изменяют секрецию и моторику. Это создает локальное нейрогенное воспаление, которое не видно невооруженным глазом, но является реальным физическим мостом между психологическим состоянием и симптомами СИБР, такими как боль и вздутие.
Это не означает, что СИБР — это «все в голове». Его физиологические проявления — реальны и измеримы. Но понимание психосоматического компонента кардинально меняет подход к лечению. Становится ясно, что одной лишь антибактериальной терапии или диеты часто недостаточно для достижения стойкой ремиссии. Современные клинические рекомендации все чаще включают в протоколы лечения работу с психотерапевтом, использующим методы когнитивно-поведенческой терапии, а также техники управления стрессом. Корректируя работу мозга на оси «мозг-кишечник», мы получаем возможность влиять на саму причину моторных нарушений, разрывая порочный круг и предлагая человеку не просто временное облегчение симптомов, а путь к полному и долгосрочному восстановлению.