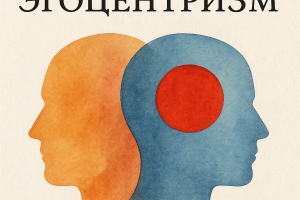Женщина, 35 лет. Раньше на сеансах она почти всегда говорила о матери, иногда упоминала отца, еще реже — мужа и дочь. О себе ни слова. И вдруг, после недели болезни с температурой и прочими неприятностями, весь час был посвящен ей самой. Она рассказывала, как чувствовала себя, вспоминала, как в первом классе болела свинкой: мама купила торт, а она не могла есть кусками, но намазывала крем на ложку и все равно съела половину. Делилась, как тяжело было во время беременности и после операции.
Я спросила: «Почему нужно было заболеть, чтобы заговорить о себе?» Она задумалась: «А о чем говорить-то? Я же не болела». Я удивилась: «Неужели здоровые не заслуживают жалости?» , «Конечно, мама всегда говорила: “Что ты себя жалеешь, чай не больная, не кривая, работать можешь, муж есть”».
Как часто мы попадаем в эту ловушку: если не подходишь под критерии жалости, но нуждаешься в ней, начинаешь убеждать себя: «Чего разнылась, руки-ноги целы, не голодаешь…» И лишаешь себя не только заботы от других, но даже права ее получить. А вот если заболел — тогда, пожалуйста… если, конечно, рядом не окажется кто-то «более больной» (например, мама, у которой и давление, и сердце «колет» из-за тебя).
Почему возникает эта установка и как она мешает жить?
Чтобы разрешить себе принимать внимание и заботу, нужно внутренне согласиться, что ты достоин этого. А чувство собственной ценности , редкий дар. Оно формируется в атмосфере принятия, когда родители своим поведением говорят: «Мы видим тебя таким, какой ты есть. Ты не обязан быть лучшим, мы любим тебя просто потому, что ты это ты». И это возможно у тех, кто сам о себе такого мнения.
Но чаще родители — обычные люди, не злые и не идеальные педагоги. Они воспитывают, исходя из своих страхов: страх, что тебя не примут, рождает совет «старайся нравиться всем»; страх удара судьбы , установку «никому не доверяй и никого не жалей»; страх оказаться беззащитным . Правило «если ходишь на ногах и не голодаешь — не жалуйся».
Реальность же опровергает эти правила: самая плаксивая девочка в садике получает лучшие игрушки, а доверчивых обманывают не чаще, чем «проницательных». Логика подсказывает, что родительские установки не всегда верны, но страх их нарушить сильнее.
Когда приходится делать то, во что не веришь, не подвергая сомнению базовую установку, рано или поздно появляется злость. Злость на абстрактный мир ,ведь нельзя направить ее на близких (они хотели как лучше), на родителей (они не виноваты), на коллег (ведь «нужно нравиться людям»).
В итоге злость обращается на себя: «Я все делаю правильно, как мама учила, а счастья нет. Значит, я плохая, неумелая». Тогда возникает мысль: «Вот заболею — отдохну, получу внимание, заботу, любовь». Но нет — не получишь. Если ты не считаешь себя достойным, болезнь не изменит этого — ты останешься недостойным, только еще и больным.
Чтобы принимать заботу, нужно видеть в ней взаимодействие двух людей: один хочет помочь по собственной воле, а другой признает, что ему нужна помощь, и просит, не требуя.
Принятие помощи не унижает — это нормальная часть жизни в обществе. Иначе зачем оно нужно?
Важно научиться видеть помощь как обычный контакт, как совместную работу, где одному не справиться. Понимать свои потребности, озвучивать их, принимать, что люди могут помочь, а могут — нет. Это акт доброй воли. Практика показывает: людям нравится быть героями больше, чем злодеями. Мы с удовольствием помогаем, чтобы сказать себе: «Я хороший человек». Верьте в героев . Их больше, чем кажется!