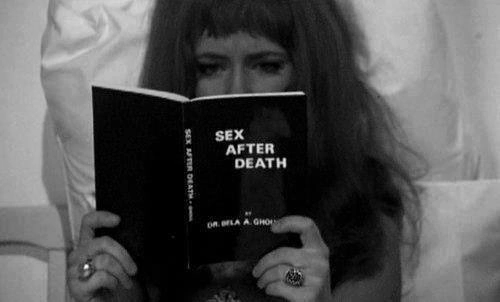« — Так значит ты ни во что не веришь? — Я верю в голос Нины Симон, когда я его слышу — чувствую что-то такое, очень похожее на Бога»
Не так давно на сессии клиент говорил о вере: о том, что он не понимает, как можно полагаться на веру, выстраивать свою жизнь вокруг, скажем, веры в Бога. Я ответила, что в психоанализе верят в бессознательное, на что клиент недоуменно возразил, что бессознательное — это не вопрос веры, что это другое.
Другое. То «иное», что древние греки обозначали приставкой «ἄλλος»…
Чем же бессознательное наукообразнее или достовернее, в качестве предмета веры (на взгляд моего пациента, например)? Или почему веру противопоставляют науке? Хотя не потому ли происходят великие научные открытия, что некто очень сильно верил? В круглую землю, скажем, или в атом? Поверил – и «увидел», а после – «увидели» (или уверовали?) все остальные.
Да, безусловно, существует доказательная база, эксперимент, наблюдаемость, измеримость, опровержимость. Но так ли противоположны и/или взаимоисключаемы наука и вера? Во-первых, неплохо было бы отделить веру от обывательской ассоциации её с религией, с верой именно в Бога. Словари определяют веру, как глубокую убежденность, уверенность в чем-то. Вера – это уВЕРенность, а знание – уЗНАНость. А масло масляное. И вот само собою явилось еще одно доказательство, что мы живем внутри языковой системы, где принуждены объяснять значение одного слова при помощи других, где мы зависим от знаков, созданных человеческой историей. Историей с таким же «пропущенным началом», как и история каждого отдельного человека.
Наука так же сообщается знаками. А знак психичен и двусторонен по своей природе, – спасибо де Соссюру за это «психичен». Наука, как производное деятельности человека внутри языковой матрицы – порождение психики, часто – весьма конкретной. Стоит ли удивляться, что эта «конкретная психика» может произвести на свет такое восклицание: «Хвала Господу, у нас есть пенициллин!».
Но я сейчас не о расщеплении и сосуществовании противоположных установок внутри одного психического аппарата, а о том, что безоглядная слепая вера в науку или Бога – это эксцессы одного порядка. Меня, скажем, совершенно не удивляет факт, что в научном мире огромное количество глубоко верующих профессоров и докторов наук; или может быть священнослужители не принимают антибиотиков?
Речь не о [нормальном] расщеплении, а о той части «глубокой убежденности», обнаруживаемой нами, как «вера», где не существует критики, где нет места размышлению, аргументации, жизненному наблюдению. Более того, подчас даже невозможно заметить, сколько кирпичиков наших актуальных и кажущихся вполне рациональными и наукообразными взглядов – лежат на фундаменте слепой «глубокой убежденности».
Например, один человек – весьма прогрессивных взглядов – как-то упомянул в житейском разговоре, что, хотя он и не считает себя религиозным – совершенно не выносит, когда кто-то шутит про Бога, хихикает в церкви. Что даже в качестве слушателя такой шутки он становится «соучастником преступления», и ему кажется, что он будет за это жесткого наказан; или что он не может выбросить ветхую икону из дома бабушки, оставшуюся после ее смерти – тоже из страха «божественного возмездия». К слову, прелюбодеяния — а мы знаем, что оно таково и в мыслях — этот человек не только не боится, но и весьма им наслаждается.
Такую избирательную богобоязненность с помощью расщепления объяснить уже не получится. Но если пофантазировать, то можно представить, что самым страшным (жестоко наказуемым) для этого человека представляется не ослушание, а именно богохульство. То есть, в психику этого человека проникла – весьма некритически – убежденность, что Могущественную Фигуру, устанавливающую правила жизни и реализующую наказания – вероятнее всего прогневать манифестацией прямого неуважения. И если это послание от родителей было систематическим (де, за нашей спиной можешь и пошалить, это сойдет с рук, главное, не смей открыто проявлять к нам неуважение) — оно вполне могло послужить основой несколько перверсивного, лицемерного, «мафиозного» отношения к неписаному закону, институциям и людям вообще. И это только один из множества таких «слепых интроектов», которые часто складываются в целую систему Бионовского «отрицательного знания», препятствующую реальному контакту с жизнью и другими людьми в его полноте!
Если поразмыслить еще немного и опереться на психоаналитические воззрения о том, что прообразами божественных авторитетов и отношения к ним являются фигуры родительские – можно попробовать сформировать гипотезу о том, за что и каким образом этого человека наказывали в детстве. В том возрасте, когда вера в истинность родительских посланий непреложна и не может быть подвергнута сомнению, опровергнута наблюдениями или жизненным опытом и пр. Убеждение возникло не просто так, не потому, что ребенку не достало наблюдательности или прозорливости, а чтобы он мог справляться с тревогой, находясь в ситуации беспомощности и зависимости.
Каждый ребенок пытается выстроить систему убеждений, которая помогла бы ему – хотя бы в фантазии – избежать невыносимых для него переживаний. Такие системы «примитивных верований» ребенка – не вполне, а то и вовсе – нежизнеспособны, поскольку родители в своих проявлениях, страшащих ребенка – редко бывают последовательными и предсказуемыми.
Но когда нет ничего другого – «сгодится» и ложная система всемогущих убеждений, аутистическая капсула, патологическая шизофреногенная фрагментация психики, и другие «инструменты», помогающие ребенку «выжить» в семье алкоголиков, или в полной нищете, или с депрессивной матерью, или с садистичным отчимом, или, напротив, с обожающей матерью, инцестуально провозгласившей ребенка своим главным «партнером», мечтой и смыслом жизни.
Всемогущие защиты и магическое мышление – фундаментируют психику любого субъекта на начальных этапах жизни. Катастрофы развития и адаптации начинаются тогда, когда ребенок покидает «эдем материнской груди» и оказывается с реальностью без прикрас – один на один: резко, без надежного «переходного пространства» (по Винникотту), без необходимой эмоциональной и ментальной поддержки. Если в этот период ребенок получает достаточно помощи и контейнирования – опора на всемогущие защиты уменьшается, на научение через опыт – крепнет. И тогда те «кирпичики» психических и мыслительных процессов, что были получены благодаря «вере» – могут быть трансформированы в более адаптивную (реалистичную) форму отношений с миром и самим собой. Или нет.
Человеку не нужно «верить» во взаимную предназначенность «двух половинок», если он умеет выстраивать удовлетворительные отношения с обычным человеком. Человеку не нужен «костыль» экзальтации и «достоевщины» в любовных отношениях, если он удовлетворен собой, своими достижениями и не ищет счастья только в любви другого. Человеку не нужно вписывать желания на доски и карты, если он понимает, в чем его талант и конкурентные преимущества, чтобы не просто мечтать «о завтраке на венецианском канале», а спланировать туда поездку в реальном времени. Человеку не нужно становиться лучшей версией себя, практикуя медитацию и «расклады на квантовых нейронах», чтобы снять «духовные блокировки», если он может выносить свое несовершенство, признавать и приспосабливаться к своим ограничениям и адекватно использовать возможности внешнего мира.
Верю ли я в бессознательное или я в нем глубоко убеждена? Верю ли в расщепленного субъекта и психоаналитический способ мыслить о мире? Да, верю. Но не потому, что Фрейд или его последователи обещали мне просветление, эйфорическую преисполненность или власть над неокрепшими умами, а потому что каждый день в кабинете и обычной жизни я наблюдаю работу бессознательного, проверяю теоретические гипотезы клиническим опытом, формирую, подчас, ложные гипотезы о наблюдаемой психической реальности, чтобы опровергать их вместе с анализантами, и озадачиваюсь новыми – иногда это мучительно для всех участников процесса.
Но в тот момент, когда человек, после многолетних мытарств по своей жизни, отвергая себя, ненавидя себя и других, презирая свой способ любить и желать, отвергая жизнь за ее бессмысленность и пустоту – начинает ощущать свою ценность, начинает получать наслаждение даже в своем симптоме, когда в его жизни вдруг появляется то, о чём он и не подозревал, даже если это обычное для кого-то линейное течение времени, когда он уходит с 4-х нелюбимых работ, чтобы заняться одной – любимой, – я не просто верю в психоанализ, психоанализ здесь, строго говоря, – лишь слово в шуме мириад других слов. Вера здесь становится знанием, причем, знанием не в фаллоцентричном гегельянском смысле все-знания, а в значении психоаналитическом: знанием достаточно надежным и основательным, но вместе с тем, всегда оставляющим место сомнению, необъяснимости, трансцедентальности и… свободе.