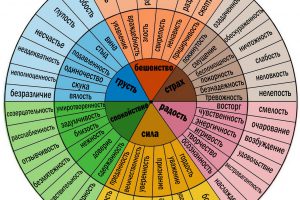Влечение и желание — это разные категории.
Влечение — хоть и относится к человеческому порядку (в противовес инстинктам животных), но определяется дологическими, доречевыми, очень телесными, плохо поддающимися вербализации — часто симптоматическими «метками».
В то же время — каждый, кто в десятый раз за вечер открывает дверцу холодильника в поисках «чего-то такого» — узнаёт эту «невозможность противостоять толчку», о которой писал Фрейд в определении влечений.
Узнаёт, когда открывает — и закрывает — холодильник, или Тиндер, или каталог Икеа, или очередную науч.-поп. статью, или Вайлдберриз.
Женщина, одержимая покупкой сумочек или украшений — не желает на самом деле ни сумок, ни украшений. Она фиксирована в своем наслаждении на самом процессе покупки. Лишенная возможности покупать новые сумки — она не повернется к старым, чтобы лелеять их. И её либидо-энергия переключится на обслуживание других аспектов влечения потреблять.
Поскольку ей не нужна сумка. Конкретная сумка, необходимая для удовлетворения конкретного желания. Скажем, чемодан для путешествий или кошелек.
Влечение не обслуживает нужду — влечение обслуживает наслаждение. Обслуживает бесстыдно — сегодня мы обнаруживаем здесь инверсию стыда: стыдно не наслаждаться, стыдно не следить за модой, стыдно не покупать новые сумочки.
А вещь необходимая — удовлетворяющая конкретную нужду, обоснованную сублимационными процессами; вещь значимая, к которой можно привязаться — переводит нас в категорию желания.
Желание стремится к своему объекту, поскольку в отношениях с объектом заключена сама возможность удовлетворения.
А влечение — это тотальный и бесконечно проигрываемый отказ от объекта.
Влечение — это сторителинг, меню, карусель, каталог, сериал, — длиною в жизнь.
Машинерия влечения — это рыночная экономика, которая стимулирует потреблять, но не привязываться к объекту потребления. Это мода. Это индустрия омоложения. Это блогинг. Это фаст-фуд. Это Нетфликс.
Парализующая фиксация на потреблении — вот, что лучше всего иллюстрирует динамику влечения. Причем, потреблять (но не обогащаться) можно даже знанием. Здесь мы находим эпистемофилическое влечение, описанное Бионом, Мельтцером, Стайнером.
Влечения — это драка в очереди за новым айфоном, который устаревает еще до «премьеры». Это эпистемофилия — абсорбция бессистемного знания безо всякой прикладной цели. Это сексуальное возбуждение, пристегнутое к ирреальному образу — в безуспешных попытках его воплотить в нескончаемой веренице сексуальных партнеров…
А Желание — это метонимия. Метонимия возможна только там, где уже произошла символизация. Символизация потери. Символизация [навсегда] утраченного наслаждения — вместе с надеждой на сатисфакцию, которая периодически обнаруживает мнестический след — скажем, в литературе или кинематографе.
Например, в сюжете взаимной предназначенности двух влюбленных, словно бы созданных друг для друга. Причем, «предназначенность» эта — сулящая небывалое(!) наслаждение, — ничем вразумительным не определяется.
Это даже не признание друг друга во взаимной перверсии (которое как раз понять можно). Но какая-то невнятная, но всеми угадываемая история про то, как герои как-то по-особенному друг для друга пахнут, двигаются, «звучат», «излучают энергетику».
А это вовсе не волшебство, не чудо, не божественный промысел: это регресс к влеченческому уровню. Уровню асимволии, бессмыслицы, невозможного. Уровню младенца, блаженно уснувшего с соском матери во рту, всемогущественно утвердив себя на месте её желания.
Желание же — напротив — знаменует конец нарциссического всемогущества, полагает забвение «эдема материнской груди» — и поиск нового объекта. Объекта, способного обогащать, наполнять. Объекта, в отношениях с которым обретается сингулярность, взрослость, — если угодно.
Желание — это отказ от оцепенения в «идеальной галлюцинации» в пользу реальной жизни и развития.
А влечение — это возбуждение от поиска невероятного, замыкающее на самом себе, в невозможном наслаждении — ценой отвержения удовлетворения реального.